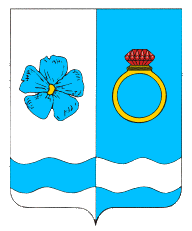Женская память о войне
Для материалов книги Е.Н.Закаменной «Плёс. Летопись ХХ столетия», о презентации которой шла речь на стр.4, выбран привычный для автора стиль исторического очерка. Предлагаем вниманию читателей один из них – «Женская память о войне» (публикуется с разрешения автора в сокращении).
Не все могут поведать потомкам документы, сухие протокольные строчки. Я бесконечно благодарна женщинам, которые рассказали о своей жизни в тяжкие годы войны. Из их рассказов оживают картины тех далеких лет, становятся яркими и осязаемыми.
Солдатские погоны
Удалось записать воспоминания Евстолии Витальевны Кузнецовой, легендарного мэра города. В войну с 1943 и по 1949 год она, совсем еще молодая женщина, работала председателем швейной артели «Большевик», самого старого советского предприятия. Она вспоминала. «Работали в три смены, особенно тяжело было ночью. Пуговицы пришивали да петли обметывали девчонки лет по двенадцати, как не доглядишь, так и заснут за верстаками. Бывало ночью сбегаю, проверю – спят. Хотя и жалко, а будить надо, надо работать, надо план выполнять».
В городе электричества не было, но осталась подстанция от Волголага НКВД, было электричество в санатории. Срочно было проведено электричество в артель, она стала военным производством. Евстолия Витальевна продолжает: «Так бывало, что вдруг отключится свет, девчонки рады, работать нельзя. А для председателя забота – надо восстанавливать. Электрика никакого не было, пойдешь к начальнику почты Карачеву – поможет. Потом нашли причину – кто-то из девчонок сунет иголку в провод, замкнет – перегорят предохранители. Провели разъяснительную работу – прекратили такое устраивать».
Вспоминается и такой случай. «Артель получила заказ на пошив солдатских погон, в армии к тому времени ввели погоны. Пришлось ехать получать сукно на погоны в Иваново. Поехала одна, оформила документы, получила кипу красного сукна и две кипы темно-зеленого, а как справлять домой в Плёс? Какие-то военные с машиной везли груз в Фурманов, упросила захватить..
Потом эти тюки надо было справить на станцию и довезти до Приволжска, а там уже, верно, ждали с лошадкой. Была в артели старая лошадь по кличке Мальчик, от Приволжска до Плёса везли эти кипы на лошади, а сами с возчиком шагали пешком, не потянул бы Мальчик всех».
Самые горькие воспоминания – воспоминания о всеобщем страхе, которые потом жил в душе долгие годы.
Вспоминают, с каким трепетом ждали почтальона, так хотелось весточки с фронта от отца, мужа, брата, и как страшно было: вдруг там увидишь незнакомым почерком написанное: «Ваш муж погиб смертью храбрых в бою за…». Сегодня в соседнем доме слышны страшные вопли и рыдания, сегодня соседка надела черный платок, а завтра?

Гороховый кисель
Многие женщины остались с тремя, с пятью малолетними детьми. Многие из них были домохозяйками, теперь пошли работать, и рады были любой работе, самой тяжелой, мужской. Работали не столько за зарплату, сколько за карточки. По карточкам можно было получить 400 граммов хлеба, а иногда и крупы, и немного масла, и каких-то других продуктов. Если были какие-то вещи от довоенных времен, можно было в деревнях обменять на продукты. И вот после работы в темные зимние вечера, а то и ночью молодая женщина возвращается домой с котомкой за плечами, добыв где-нибудь в дальней деревне, километров за 15-20, ржаной муки или ячневой, гороху или гороховой муки, редко пшеничной, оставив там свое единственное шелковое, может быть, свадебное платье. Можно поставить самовар. А если хватит сил, то сварить гороховый кисель. Такой рецепт военных лет по приготовлению горохового киселя вспоминает одна старушка. Я была маленьким ребенком, но тоже помню эту процедуру. Насыпается стакан гороховой муки в глиняную или алюминиевую миску, затем из крана кипящего самовара льется струя кипятка. Кисель нужно было мешать, чтоб не было комков. В это время в трубе самовара на углях до красна раскаливается железная гайка, затем гайку надо опустить в этот кисель, он шипит, фыркает, плюхает. Потом надо накрыть кисель крышкой и укутать. Не затапливать же ради этого киселя печку, и так дров мало. А на завтра он застынет, разрезать его на кусочки и накормить детей. Хорошо бы полить льняным маслицем. А из ячневой, ячменной, крупы, наутро можно напечь колобков на воде, и подать на завтрак. Необыкновенно вкусными остались в памяти эти «ячные колобья», особенно с молочком или с простоквашей...
Обед на таганке
«А мы не голодали», - вспоминает другая. «Жили своим хозяйством, вся земля в городе: и по Волге, и по Шохонке, и на горе Левитана, - была разделена на полоски и отдана жителям под огороды, и на Соборке были участки под картошку. Обычно ближе к воде сажали капусту, затем морковь и свеклу, выше картошку и огурцы». Одна женщина с гордостью вспоминает, как радовалась осенью, накопав 40 мешков картошки, как все сорок перетаскала домой, перебрала, просушила и ссыпала в подвал. Без горя теперь зиму можно прожить, дети будут сыты, можно и поросенка вырастить.
Многие в те годы держали скот, кто козу, кто поросенка, кто гусей, почти все держали куриц, очень многие и корову. В городе было два стада, для одного стоянку отвели на Петропавловской горе, горе Левитана, для другого – в Березовой роще. Вспоминают, как маленькие девчонки в 8-10 лет уже ходили с ведерком доить козу на стоянку в Березовую рощу. «А ведерко мать сама сделала из жестяной банки, пробив дырки и привязав проволоку», - рассказывала Муза Васильевна Иванова. Другая девчонка несла горшок на веревочке. Молока от козы хватало только младшим. Старшие с семи лет уже питались как взрослые. Летом собирали грибы, ягоды, щавель. Самое тяжелое время – апрель, май, июнь, прошлогодние запасы подошли к концу, новый урожай еще впереди. Собирали в поле первые весенние растения, называли их песты. В пищу шла и трава с огорода. Еду готовили летом на таганке. Разводился небольшой костерок в хорошую погоду на улице, на шестке русской печи в дождь. Ставился таганок – это либо металлический обод на треножнике, либо несколько кирпичей. На таганок ставили чугунок, в который крошили всякую траву с огорода, свекольную ботву, сныть, мокрицу, укроп, немного прошлогодней картошки, готовую похлебку забеливали молоком. Щепки для таганка собирали весной, как спадет вода на Волге, и на берегу останется много разного мусора, нанесенного половодьем. Для таганков собирали и мелкие сучья в лесу. Сбор щепок и сучьев был занятием для детей.
В той семье, где держали корову, забот было еще больше. Надо было летом в сенокосную пору одной с детьми, что постарше, накосить сена на всю зиму. Выкашивались все лесные опушки, небольшие полянки. И успеть это надо было до работы, а значит, встать не позднее трех часов, пусть и лечь довелось после двенадцати. Высушенное сено в стожках оставалось до первопутка, до первого снега. Потом можно было в артели попросить лошадку перевезти сено, а чаще запрягайся сама в салазки и тяни, сколько сил хватит. Не у всех эти салазки были, но выручали друг друга – одалживали на время.
Те, у кого были лодки, летом справляли домой высушенное сено по Волге. Старались покосить, пусть и далеко от города, но ближе к Волге. Высушенное сено, как говорили, «наметывали на лодку», сами за весла, и – по течению к городу. Тяжела, неповоротлива была эта лодка – «завозня», кровавые мозоли набивали, работая веслами.
Надо было еще на зиму дров заготовить, и не только для себя. Молодые 18-летние девчонки, мобилизованные по трудповинности, становились заправскими лесорубами и плотогонами. Валили деревья пилой двухручкой, ловко раскряжовывали срубленные деревья, обрубали сучья, тащили, катили к берегу толстые трехметровые кряжи вместо трелёвочного трактора. Научились ловко вязать плоты, ступая в холодную, а то и в ледяную воду, сначала по колено, потом по пояс, бывало и по шейку. Вода дерево держит, в воде оно легче, иначе не хватит сил столкнуть плот в воду. Потом, как заправские плотогоны, вооружившись длинным шестом, гнали плот по течению. Потом надо было деревья вытащить на берег, надрывали животы и растягивали мышцы до нестерпимой боли. Такую историю со знанием всех тонкостей этой работы рассказала мне Валентина Сергеевна Смурова, в девичестве Бабочкина. Так заготовляли дрова и для больницы, и для школы, и для детского дома, и для аптеки. Маргарита Васильевна Кузьмичева рассказала, как заведующая аптекой Мария Ивановна Доступова, которая и жила при аптеке в маленькой комнатке, сама пилила и колола дрова для аптеки, сама же и выполняла работу фармацевта. В те времена многие лекарства готовили в аптеке, и каково было выполнять эту тонкую работу, натрудив руки до дрожи после колки дров…

Нефть и керосин
Вести о наступлении гитлеровцев, первые похоронки, состояние постоянного страха остались в памяти о первых днях войны. Женщины вспоминают, как гул бомбежки под Ярославлем был слышен даже в Плёсе. Сначала не поняли, в чем дело, скорее загнали домой бегающих на улице детей, занавесили окна, как будто это могло спасти от страшной беды. Где-то под Ярославлем разбомбили нефтеналивную баржу. Каким неожиданным подспорьем в хозяйстве оказалась разлитая и плывущая по Волге нефть. Весь город: и старики, и женщины, и дети собирали нефть, «ловили ковшами». Ржавые ведра, старые бочки, банки, склянки и прочая тара были заполнены. Некоторые запасливые хозяйки потом всю войну меняли эту нефть в колхозах на хлеб и картошку. Там смазывали нефтью колеса телег.
Экономить приходилось на всем. Огромным дефицитом стал керосин. Электричество в городе для жителей появилось в 50-60-е годы, а в войну зажигать даже керосиновые лампы не всякий мог себе позволить, появились «гасики»: для них годились предиконные лампадки, стаканчики, жестяные баночки, чашки с отбитой ручкой. Скручивался фитилек из льняных или хлопчатобумажных ниток и опускался в стаканчик, кончик фитилька нужно было продеть лучше всего в крышечку от разбившегося заварочного чайника. Слабый дрожащий огонек «гасика» давал мало света, но при этом свете дети учили уроки, матери до полуночи в зимнюю пору вязали носки, перешивали для детей свои довоенные платья и юбки. Появилась и такая одежда, как «стеганые ватные брюки» и телогрейки, и даже обувь – «стеганые бурки». Эта неуклюжая некрасивая одежда, в которую вынуждены были одеться молодые женщины, хороша на лесоповале, в дороге, когда приходится шагать рядом с лошадью за возом с сеном и дровами.
Да разве об этом расскажешь...
Сегодня извечную женскую работу, стирку, выполняют машины-автоматы. А женщины вспоминают, как стирали белье и для своих детей, и для раненых в госпитале вручную. В госпитале стирали с хозяйственным мылом и каустической содой, разъедавшей руки. А дома, вспоминая стародедовский способ, готовили щелок из настоя березовой золы, в нем белье замачивали, потом в корчагах парили, поставив корчагу на ночь в русскую печь. А полоскать отстиранное белье тащили на Волгу или на Шохонку, зимой полоскали в проруби. От ледяной воды сводило руки, а ломило так, что слезы выступали на глазах. Но молодость преодолевала все.
Многие женщины отправлялись летом в колхозы «наниматься жать». За сжатый серпом гектар ржи или пшеницы можно было заработать пуд зерна, потом смолоть на местной мельнице. Частенько мать брала с собой 9-10 летнюю дочку, учила ее делать прясла и вязать снопы, хоть и слабая, но помощь матери.
Для кого-то из женщин профессией становилась мужская работа «возчик», научились разбираться в упряжи, управляться с лошадью. Так, иной раз снаряжался обоз из пяти-семи лошадей и отправлялся за материалами для швейной артели в Кинешму, в Фурманов или поближе в Приволжск, чтобы получить ткань по разнарядке для пошива солдатского белья. Грунтовые разбитые дороги – мученье и для лошади, и для возчика. Не дай бог, в какой-нибудь колее или на разбитом мостике застрянет колесо, тогда перегружай воз, распрягай лошадь и всем миром вытаскивай телегу...
Да, разве об этом расскажешь,
В какие ты годы жила,
Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла.
(стихи Исаковского).