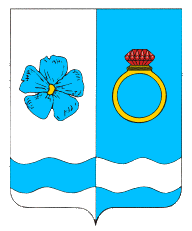Матушка
Однажды ночью я умер. Я умер во сне, или приснился сон, что я умер. Теперь мне кажется, что это даже не важно: настолько тонка грань между сном и явью, между жизнью и смертью. Всего лишь переход из одного состояния души в другое.

Когда наутро я увидел в окно те же дома и деревья, оказалось, что ничего не изменилось, просто жизнь забрала у меня еще один день. Мы, как дети, воспринимаем своим сознанием лишь то, что видим. Большего нам знать не дано. Мы, как дети, боимся темноты и страшимся неизведанного.
Однажды ночью умер не я – умерла моя матушка. Она прожила хорошую, долгую жизнь. Ей было девяносто лет.
- Посмотри на эту фотографию. Узнаешь? Это ты маленький.
- Вот я еще фотографии нашла. У тебя такие есть?
- Я тебя угостить хочу. Вот тортик принесла.
- Ты на улицу собрался? Одевайся потеплее.
- Знаешь, о чем я тебя попрошу? Купи мне шоколадку. Врачи говорят, что мне нельзя сладкого, а я люблю. Теперь уже можно.
- Одну фотографию я никак не могу найти. Ту, где я на войне.
Мы страдаем и плачем, если не все еще слезы выплаканы, когда умирают наши родные. Мы чувствуем себя виноватыми, словно не уберегли, не удержали, не позволили пожить им еще немного. Будто вовремя не смогли, не успели попросить прощения.
А может быть, нам жаль не умершего, а самих себя? Как жить дальше одному? – и продолжаем жить.
Жизнь – это движение. Смерть – покой. Все закончилось, и нет больше ни игры, ни страстей, ни желаний, и не нужно больше терпеть, ничего не надо.
До тридцати лет, если ты здоров и не испытал войны, живешь, не помня о смерти, не думая о том, что всему когда-нибудь приходит конец, что кончается и жизнь.
После тридцати начинают тебя посещать мысли о смерти. Вокруг большой, яркий мир, в котором крутятся и пересекаются миллиарды жизней, в том числе и твоя. Но этот мир был и до тебя и останется после того, как ты исчезнешь. Тебя не станет, а мир этого даже не заметит.
Только когда задумываешься о конечности бытия и о смерти, только тогда начинаешь сознательно стучаться мыслью к Богу. И начинаешь понимать, что Бог дает человеку жизнь и сохраняет ее только ради него самого, не для того, чтобы он спас или осчастливил человечество, а ради него самого, единственного и недолговечного в этом свете. А если Бог создал человека по подобию своему, то не может человек вместе со смертью испариться в никуда, а лишь перейдет в новое состояние души, известное только Богу, а нам непонятное и потому пугающее.
Наверное, если человек дожил до девяноста лет, он уже видит смерть, не умирание, а то, что с ним будет потом, и не страшится ее.
Матушка любила доставать, перебирать и показывать гостям старые фотографии.
После ее смерти на столе осталась лежать одна из них: молодые, радостные мама и папа с младенцем на руках.
Все понимали, что жить ей оставалось недолго, и она тоже спокойно сознавала, что жизнь прожита.
Я сижу рядом с маминой пустой кроватью, как возле гроба. Мамы нет, а мне будто все еще пять лет.
Я умер во сне и возродился снова, потому что матушка продолжала жить и во мне, и рядом со мной.
* * *
Я вспомнил тот сон, похожий на явь и на смерть.
На берегу извилистой реки возвышался монастырь. Там, в аллеях монастырского сада я познакомился с матушкой Евдокией.
Белокаменный женский монастырь скрывался за высокими стенами и старинными воротами. Просторный двор пересекался асфальтовыми дорожками и зеленел травой.
Вокруг монастырского храма с чудотворной иконой Богоматери толпились паломники и туристы. Когда верующие вышли со службы во двор, они обступили матушку Евдокию.
- Благослови, матушка.
Почему-то из толпы протягивающих к ней руки людей она выбрала одного молодого парня, стоящего поодаль, и сказала ему:
- Подойди ко мне. Тебе тяжелее других здесь. Ты больше нуждаешься в утешении. Давай отойдем, и сними с себя камень.
Я не знаю, о чем они говорили, но я видел, как разгладилось лицо этого незнакомого мне человека.
Как оказалось, матушку Евдокию богомольцы знали и приезжали к ней издалека.
Я торопился уйти от толпы подальше, чтобы остаться одному и больше не слышать голосов и не видеть лиц: страждущих и равнодушных, фанатичных и насмешливых.
Распахнутые по другую сторону монастырской стены резные ворота вели в тенистый сад. Стоило только пройти через них, и позади оставались звуки и голоса, а впереди была благодать, тишина, покой и уединение. Я вошел, и было совсем не страшно, а приятно уйти от людей и оказаться в саду, наполненном ароматом цветов и деревьев.
Там, в заповедном монастырском приюте я встретил матушку Евдокию. В черной, длинной монашеской одежде она лицом была похожа на мою мать.
Она встретила меня ласково, так, будто давно ждала. Мы гуляли вдвоем по аллеям и разговаривали, не знаю о чем, но вокруг не было никого, а на душе становилось спокойней и радостней.
Именно тогда я вдруг понял, что раскрывшиеся мне врата и есть то самое пограничье, которого люди страшатся, не ведая, что за ним: мрак или свет.
Какой необычный монастырь. Не сразу понимаешь, что он повторяет наш мир: тот, где мы живем, и тот, в который мы потом переходим. Стоит лишь пройти через старинные ворота, если тебя позовут.
- Я хочу показать тебе свою келью, - сказала матушка и назвала меня по имени.
Я не удивился и пошел вслед за ней.
Келья была темной и освещалась лампадами под ликами Спасителя и Богоматери. Когда глаза привыкли к темноте, я разглядел в маленькой комнате узкую кровать, стол, два стула и шкаф у стены. На шкафчике стояло несколько фотографий.
Когда мы присели за стол, матушка показала одну из них. С фотографии улыбалась девушка в матросской форме с медалью на груди.
- Мне здесь двадцать лет. Я на флоте воевала, в химической защите. Глупо сейчас может показаться, ведь чуть не погибла. А тогда просто написала заявление и пошла добровольцем на фронт. Родители остались в эвакуации, переживали очень.
Нас много было: таких же девчонок. Молодые, ничего не боялись.
Меня отправили в Ленинград. Он уже тогда был в блокаде. Нас погрузили на корабли и повезли через Ладожское озеро. Шел целый караван кораблей, а на палубах сгрудились плотно в кучку молоденькие ребята и девчонки. Я тогда в первый раз увидела фашистские самолеты. Черные, с крестами, они с воем заходили на нас и бомбили, бомбили. А мы даже спрятаться никуда не могли. Очень страшно было. Одна бомба попала в корабль, идущий перед нами. Он разломился и ушел под воду. Из-за столба дыма ничего не было видно. Когда дым развеялся, только чемоданы плавали на поверхности.
Вот такой я увидела войну. Потом легче было, привыкли.
А это вот мои подруги, вместе служили. Кто-то из них жив, кого-то уже нет.
Матушка Евдокия рассказывала спокойно, будто со стороны, будто не с ней все это происходило.
В ней я узнавал свою матушку. Я всматривался в глаза и в лицо и верил, что она не умерла.
Несмотря на свой преклонный возраст, матушка Евдокия никогда не просила за собой ухаживать и все старалась делать сама.
Она ушла из этого мира, никого не побеспокоив, тихо, во сне, с улыбкой на губах.
М.Забелин.